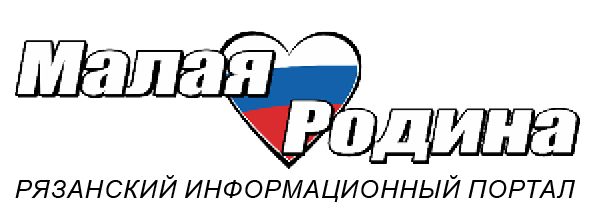Одним из самых полезных и авторитетных мужиков Соснового Бора был Сидор Абрамович Бонин. Памятью, смекалкой, силой тоже Бог не обидел. Если что увидит, приметит в лесу какое дерево, хоть того дальше, всё равно украдёт у лесников. Недаром дом его восьмигранный из голого смолья. Если спасёт, как говорят, Бог от огня, то этому дому веку не будет, следи, знай только за крышей.
Как-то приметил лесник украденную лесину, поехал по следу. Привёл след к дому Сидора Бонина. Обошёл лесник кругом, лесины нигде нет, а она уже приделана на правильную слегу.
– Где-же, Сидор Абрамович, лесина-то, срубленная в 48 квартале?
– Ты что же, Матвей Кириллович, с ума спятил, ищи, коли найдёшь, моя вина будет.
– Ну ладно, Сидор Абрамович, не пойман, не вор. Поймал бы тебя, припаял бы тебе за такое дерево, век не забыл бы.
Память у Сидора Абрамовича была отменная. Сам не грамотный, но что в газете прочитают, всё запомнит на всю жизнь. Не только содержание, а полностью весь текст. Так и дети пошли по нему. Учились с отличием.
Особенно выделялся Пётр. Был здоров, плотный, силища была редкая. Двухпудовую гирю выбрасывал через ворота, высотой с крышей 4,5 метра будет. Возился с ней, как с пятифунтовой. Здороваться с ним за руку избегали, а если кому придётся, то пальцы хрустели, а ладонь сожмёт, кожа на пальцах лопалась.
После окончания сельской церковно-приходской школы с большим трудом и с пребольшущими гостинцами (не одну дуплянку мёда пришлось Сидору Абрамовичу перевозить начальству) удалось Петра устроить в гимназию. Учить простых крестьянских детей тогда не разрешалось. Но Пётр окончил гимназию с золотой медалью и был рекомендован в Екатеринбургский университет.
Было это накануне революции. Студенты в то время жили крамольными идеями, проникнуты были «Манифестом» и «Капиталом» Карла Маркса. Были они организованы, суть дела понимали: за кем идти – за буржуазией или за пролетариатом. За революцию проходили тайные собрания.
Приезжая домой на каникулы, резался Пётр с отцом, чуть до кулаков не доходило. Сидору никак не верилось, что самодержавие свергнут. Тем более раздражало то, что сын пошёл против воли отца.
– Ты что, Пётр, хочешь опозорить наше родство? Как тебе не стыдно, для этого я тебя учу в высшем учебном заведении, не допущу этого.
– Нет, Папаня, я оскорблять тебя нисколько не хочу, но революция уже близка, и её не задушить никакими репрессиями и угрозами, никакими пытками. Опоздали, Папаня, переламывать дух пролетариата, и мы с тобой уже не причём. Повернуть вспять революцию и её пролетариат невозможно.
Студенты начали открыто выступать против своего начальства.
С такой силой, с такой армией вести борьбу даже профессорам и преподавателям было не по силам. Что позднее случилось, никто не ожидал этого. Администрация университета была вынуждена прибегнуть к медицине. Пустили в ход какую-то болезнь: эпидемию или тиф. Многие студенты переболели, а многие даже отдали Богу душу. В том числе, помер и наш земляк Пётр Сидорович Бонин. Сосновоборцы долго сожалели о таком талантливом человеке. Он бы у нас теперь управлял в центре России, был бы в правительстве.
Второй сын Савелий Сидорович был ровесником двадцатого века. Окончил тоже только церковно-приходскую школу и не отстал бы, наверное, от брата Петра, да силы у Сидора Абрамовича не хватило бы, и не пропустили бы его.
Савве и этой грамоты хватило. Был он башковитый, имел сильные организаторские способности. При коллективизации начал активно участвовать в общественной жизни. При организации колхоза всегда был на руководящей работе. Бригадиром работал, заместителем председателя колхоза. Пользовался авторитетом. Бывало, работал и рядовым.
В деревне было три полеводческие бригады, четвёртая овощная. Для смеха звали её ещё вшивой бригадой. Бригады соревновались до предела в посевную на конных сеялках.
Весеннего светового дня не хватало, прибегали к освещению с помощью летучего фонаря. Повесят его на оглоблю, фонарь светит, видно, где прошло колесо сеялки, на этот маркер и ориентировались.
За первое и второе места бригады получали денежную премию и красное знамя. За третье место полагалось знамя рогожное, т.е. к палке привязывалась рогожа. Вот и развевались эти знамёна на полевых станах. Так же боролись за первые места при заготовке кормов и в уборочную кампанию.

Росла семья у Савелия Сидоровича: три сына Пётр, Иван и Илья и две дочери Анна и Александра. Савелий Сидорович учил своих детей: кто окончил восемь классов, кто четыре, а младшему сыну Илье дал высшее образование.
Илья с отличием окончил Свердловский политехнический университет. Вначале был направлен на новостройку в Качканар инженером. Позднее стал главным инженером по строительству города Качканара. Не удалось старшему Петру работать в государственном аппарате, заменил его Илья Савельевич, племянник Петра.
Дало, всё-таки, бонинское племя государству большого человека и теперь им гордятся сосновоборцы. Хоть один человек из деревни да продвинулся в люди. Конечно, их было бы десятки, если бы не Отечественная война.
Разговор об этой семье будет не полным, если мы не вспомним самого главного, от которого произошли все вышеупомянутые. Необходимо вспомнить и прадеда Абрама, у которого жизнь тоже не прошла даром и всё как-то с шутками, да с прибаутками.
Был Абрам на редкость остроумен, но наклонности у него были в другом направлении. Был он хорошим пчеловодом, это была его основная профессия. Дети любили его за приветливость, более того, за лакомства, любил он их побаловать мёдом.
Как придёт пора подрезать мёд, хоть на пасеке, хоть на полевых бортях, подскажет соседским ребятишкам, что сегодня едет подрезать мёд. И как по радио кто объявит, детвора вся на дыбах со всей деревни. Нарежет свежего то мёда, да хлеба прихватит побольше.
– Вот, нате, ешьте, кому сколь влезет.
Тут и пойдёт работа, все перемажутся, дьяволята.
– Спасибо, дедушка, накушались до отворота. Чего поди надо тебе помочь, так поможем.
– Поправлюсь сам, детоньки, а вот это заберите своим сестрёнкам, братишкам.
Ещё положит вдобавок гостинцами. За это природа и наделила его удачливой жизнью.
В свободное время увлекался выпивкой. Уйдёт в соседнюю деревню к марийцам, а там его, как высокого гостя встречают. Уж больно уважали его, а он им свои услуги, когда на пользу, а когда и подшутит.
Как-то раз пришёл в Упею в марийский праздник. Дело было летом, в это время они «шайтана» гоняют. Подвыпили все, и давай по постройкам, да по сараям «шайтана» гонять. Абрам тоже присоединился, залез на чердак, а там веники были навязаны, и давай их бить шестом.
– Здесь он, нашёл я его, собаку.
Обил все листья у веников, и в баню сходить не с чем.
Поохала хозяйка, поохала, а куда денешься, лишь бы найти «шайтана», ничего не поделаешь.
– Вот тут, – говорит Абрам, – я его видел, он спрыгнул, но, всё-таки попало вашему «шайтану», теперь долго не придёт, забоится.
– Ай, ай, Абрамка, Абрамка, как ты его увидел, а мы сколь бегаем, не могли увидеть. Опять поят Абрама, поят, да хвалят:
– Молодец, Абрам, молодец!
По-ихнему, этот «шайтан» считается как самый страшный, наносит болезни скоту и человеку, всякие беды-невзгоды.
Напируется Абрам, домой прикатит.
Пройдёт какое-то время, затоскует он по марийцам, опять подастся к ним.
Сделался у них лекарем, в дело, не в дело: то настой, какой сделает, то травы лечебные подскажет. Глядишь, опять угостят Абрама.
Всякое было с Абрамом.
Валентин Волков, член РО РСПЛ.
На главной фото: передовики колхоза. В центре Савелий Сидорович Бонин.
Фото из архива автора.